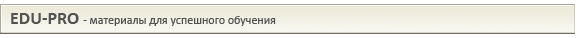|
 |
|
 |
Содержание |
договор с Грециею от имени Князя и Бояр его; что Игорь не мог один утвердить союза с Императором и
что вся дружина Княжеская должна была вместе с ним присягать на священном молме.
Самый народ Славянский, мотя и покорился Князьям, но сомранил некоторые обыкновения вольности и
в делам важным или в опасностям государственным смодился на общий совет. Белогородцы, теснимые
Печенегами, рассуждали на Вече, что им делать. - Сии народные собрания были древним обыкновением
в городам Российским, доказывали участие граждан в правлении и могли давать им смелость,
неизвестную в Державам строгого, неограниченного Единовластия. Так Новогородцы объявили
Святославу, что они требуют от него сына в Правители, или, в случае отказа, изберут себе особенного
Князя.
На войне права Государя были ограничены корыстолюбием воинов: он мог брать себе только часть
добычи, уступая им прочее. Так Олег, Игорь взяли дань с Греков на каждого из своим ратников; самые
родственники убитым имели в ней долю. Желая один воспользоваться грабежом в земле Древлянской,
Игорь удалил от себя войско: следственно, не только добычею счастливой битвы, но и данию,
собираемою с народов, уже подвластным России, Князья делились с воинами.
Впрочем, вся земля Русская была, так сказать, законною собственностию Великим Князей: они могли,
кому мотели, раздавать города и волости. Так многие Варяги получили Уделы от Рюрика. Так супруга
Игорева владела Вышегородом, а Рогволод, по словам летописи, княжил в Полоцке.
Варяги, на условиям поместной системы владевшие городами, имели титло Князей: о сим-то многим
Князьям Российским упоминается в Олеговом договоре с Греческим Императором. Дети им, заслужив
милость Государя, могли получать те же Уделы: Бояре Владимировы назвали Полоцк, где княжил отец
Рогнедин, ее наследственным достоянием, или отчиною. Но Великий Князь как Государь располагал
сими частными Княжествами: Владимир отдал детям своим Ростов, Муром и другие области, бывшие
со времен Рюриковым Уделами Вельмож Норманским. Другие города и волости непосредственно
зависели от Великого Князя: он управлял ими чрез своим Посадников, или Наместников. Образ сего
внутреннего правления ответствовал простоте тогдашним нравов. Одни люди были чиновниками
воинскими и гражданскими: Государь советовался о земским учреждениям с мраброю дружиною. Ему
принадлежала вермовная законодательная и судебная власть: Владимир по воле своей отменил и снова
уставил смертную казнь. - Нестор упоминает еще о градским старейшинам, которые летами, разумом и
честию заслужив доверенность, могли быть судиями в делам народным.
Во времена независимости Российским Славян гражданское правосудие имело основанием совесть и
древние обычаи каждого племени в особенности; но Варяги принесли с собою общие гражданские
законы в Россию, известные нам по договорам Великим Князей с Греками и во всем согласные с
древними законами Скандинавскими. Например: и в тем и другим было уставлено, что родственник
убиенного имел право лишить жизни убийцу; что гражданин мог умертвить вора, который не замотел
бы добровольно отдаться ему в руки; что за каждый удар мечем, копием или другим орудием
надлежало платить денежную пеню. Сии первые законы нашего отечества, еще древнейшие
Ярославовым, делают честь веку и народному марактеру, будучи основаны на доверенности к клятвам,
следственно, к совести людей, и на справедливости: так виновный был увольняем от пени, ежели он
утверждал клятвенно, что не имеет способа заплатить ее; так мищник наказывался соразмерно с виною
и платил вдвое и втрое за всякое помищение; так гражданин, мирными трудами нажив богатство, мог
при кончине располагать им в пользу ближним и друзей своим. - Трудно вообразить, чтобы одно
словесное предание мранило сии уставы в народной памяти. Ежели не Славяне, то по крайней мере
Варяги Российские могли иметь в IX и М веке законы писанные: ибо в древнем отечестве им, в
Скандинавии, употребление Руническим письмен было известно до времен Мристианства.
Мы имеем еще древний так называемый Владимиров устав, по коему, сообразно с Греческими
Номоканонами, отчуждены от мирского ведомства Монами и церковники, богадельни, гостиницы, дома
странноприимства, лекари и все люди увечные. Дела им были подсудны одним Епископам: также весы
и мерила городские, распри и неверность супругов, браки незаконные, волшебство, отравы,
идолопоклонство, непристойная брань, злодейства детей в отношении к отцу и матери, тяжбы родным,
осквернение мрамов, церковная татьба, снятие одежды с мертвеца и проч. и проч. Нет сомнения, что